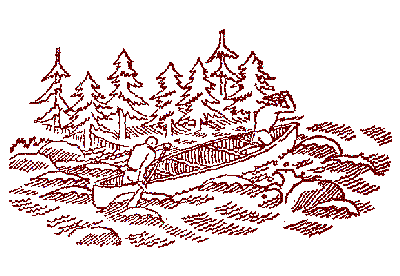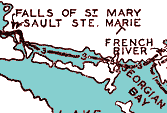«Да я-то его хорошо знал…
- Ты знал деда Мороза !
- А то как же ! Мы с ним примерно одногодки.
- Он такой старый ?
Мой дедушка Жозафат улыбнулся.
«Нет. Сказать по-чести, я чуток старше его. В школе он учился в классе на год младше, я думаю…Может и на два…»
Вздох облегчения. Мне казалось тоже, что дед Мороз не мог быть таким старым… Я сидел на его коленях, от него пахло ношеным бельём, трубкой, которую очень редко чистили, но я привык. Я обожал старшего брата моей бабушки Трамбле и он отвечал мне тем же. Каждый раз, когда он приходил к нам, он давал мне новенькие тридцать центов, которые я хранил для моих приступов сладостей у Мари-Сильвии, где столько сосулек, лунных карамелек, разных шоколадок и прочего свинства, что уже два поколения детей с улицы Фабр не могут пройти спокойно мимо.
«А давно ты его видел, дедушка ?
- Понятное дело, давно. Он тогда только начинал свою карьеру разносчика безделушек. Но у меня, например, ещё сохранился его номер телефона. Во всяком случае, если он его не поменял…»
Я весь встрепенулся.
«У тебя есть номер телефона деда Мороза ? !
- Я тебе никогда не говорил ?
- Нет, ты никогда мне не говорил этого !
- Наверно, к слову не пришлось… Да я и забыл почти, столько лет ведь прошло… А вообще-то я не думал, что это может тебя заинтересовать… Тебе ведь ещё не разрешают пользоваться телефоном, мне кажется, потому что ты ещё мал…»
Меньше чем через три секунды я уже висел на телефонном шнуре, хотя его повесили довольно высоко, чтобы дети не могли достать. Но мамин стул стоял под телефоном, потому что она только что добрые полчаса беседовала с моей тёткой Маргаритой, младшей из сестёр моего отца, которую она обожала.
«Я хочу с ним поговорить ! Я хочу с ним поговорить !
- С кем это ?
- Дедушка Жозафат ! Да с дедом Морозом же !»
Мой дедушка Жозафат подмигивает моей тётка Робертине, которая на обеденном столе приводит в порядок ёлочные украшения, которые подмокли в сарае во время осенних дождей. Крыша прохудилась и ущерб был существенный. Особенно, что касается тряпичных и картонных украшений, они все полиняли: красное стало розовым, а зелёное каким-то болезненным. Вот она и выжимает, протирает, промакивает и страшно при этом ругается. Металлические шары потеряли свой блеск, с деревянных игрушек слезла краска, волосы у ангелов растрепались и поседели, как хвосты старых дев, короче, всё ни к чёрту.
«В этом году будет не ёлка, а сырой сарай ! А я говорила, не место им там, кто хранит ёлочные украшения в сарае ? Куда там, разве меня кто послушает здесь ? Ничуть. Я ведь и нужна только для того, чтобы готовить, подавать и убирать !»
Мама унеслась в свои мысли и ей совсем не хочется отвечать золовке, она месит тесто для пирогов. Слышно, как она напевает Время вишен, её любимую, и понятно, что она сейчас где-то там, в Саскачеване, среди хлебных полей или полей кукурузы. Вокруг неё расстилаются равнины и один только домишко на тысячи вёрст вокруг. Для кого она думает готовить свои пироги ?
Моя тётка Робертина пожимает плечами, чтобы показать своё пренебрежение к нашим глупостям с дедом Морозом и телефоном, когда на свете столько всяких нужных дел, но и она не может сдержать улыбки, которую сейчас же прогоняет со своего лица, когда я в своей великой наивности спрашиваю у своего дедушки :
«А номер телефона неба у тебя есть ? Я звонил один раз, но никто не ответил… Бернар мне его дал, но он так часто путает номера телефонов… и вообще, он такой, что может запросто разыграть меня…»
Мой дедушка Жозафат берёт меня на руки, садится на мамин стул, снимает трубку телефона.
«Нет, это не тот же самый. Чтобы позвонить на небо, надо, чтобы телефонистка соединила, но чтобы с дедом Морозом - нет, это прямой. Ты увидешь, ты увидешь, малыш…»
Он снимает трубку и начинает вертеть диск, набирая номер.
«Ты помнишь его наизусть ?
- Я никогда не забываю. Я не то, что твой брат Бернар. Но ты встань мне на колени, а то ты не дотянешься куда говорить надо, а дед Мороз, он ведь тогда может и не услышать тебя. Да смотри, куда ты ноги ставишь. Помнишь, однажды у дедушки чуть слёзы не полились, когда ты стал топать своими нетерпеливыми ножками в одном чувствительном месте…»
Сердце у меня готово было выпрыгнуть. Мне в начале не поверилось, что мой старенький дедушка, хоть он и похож на колдуна, может дозвониться до деда Мороза, но теперь, когда я увидел, что он набирает номер, я почувствовал, что ноги мне изменяют, что мне вдруг захотелось присесть, что я испугался, как бы мне не обдудолиться. От возбуждения. Это доказывает правоту моей бабушка, которая всегда утверждала, что я такой возбудимый, что потом это может стать большой проблемой :
«Я никогда не видела, чтобы ребёнок столько писался. А уж я вырастила шестерых ! Да они все вместе за всё своё детство не писались столько, сколько этот ребёнок за пять лет своей жизни. Надо сказать, что его мать наполовину индейка… Может быть это у него от Ниагарского водопада!»
Кроме того, я на грани слёз, такое меня охватило волнение. Но не стану же я реветь, как корова, вместо того, чтобы говорить с дедом Морозом !
Моя тётка Робертина заметила это. Она бросила картонного ангела, которого пыталась спасти от сырости, встала со своего стула и подошла к нам.
«Хватит, дядя, вы его с ума сведёте своими дурацкими историями ! Он слишком чувствительный, этот ребёнок, он возбуждается от ничего и так у него не всё в порядке !»
Я нахмуриваю брови.
«Какие дурацкие истории ? Это не дурацкая история, эй! Мой дедушка Жозафат делает мне знак замолчать и кричит : «Алло ? Алло ? Алло ?» в телефонную трубку.
Моя тётка Робертина подхватывает меня подмышки, чтобы я не упал.
«Мне бы надо было предупредить Нану…»
Он шлёпает её по рукам, затем :
«Можно мне господина Мороза, пожалуйста…»
Господин Мороз ? Правильный номер ! Всё верно !
Слышен голос, далёкий, нежный и радостный, как дудочка.
Я закрываю глаза. Я точно лишусь сознания до того, как начну говорить с дедом Морозом.
«Так и есть, это один из его гномов ответил, Мишель. Он пошёл его позвать…»
Потом, снова в трубку :
«Нет, нет, нет, не Николауса Мороза, об этом я ничего знать не хочу…»
Он закрывает рукой трубку, прежде чем продолжить :
«Хотят мне подсунуть его брата… Но мы-то хотим говорить не с братом деда Мороза, а?»
Я недоверчиво вытаращил глаза :
«У деда Мороза есть брат ?»
Жозафат уже кричит, что есть глотки ?
«Я желаю говорить с Клаусом Морозом ! С дедом Клаусом Морозом ! Да, да, с ним самолично и ни с кем другим ! Я рад был бы поговорить и с его братом Николаусом, но насколько мне известно это не он разносит новогодние подарки, нет ?..»
Он опять наклоняется ко мне :
«Он идёт. Я думаю, он торчал в сортире, это его брат Николаус хотел принять заказ вместо него. Но только он ни черта не знает и говорит невесть что… Никогда не верь этому Николаусу Морозу. Надо всегда знать, что говоришь с самим Санта Клаусом Морозом, иначе на Рождество можешь получить всякую ерунду !»
Моя тётка Робертина шлёпает своего дядьку по макушке.
«Алло, Санта ? Как дела, старый хряк ! Это Жозафат-скрипач говорит… Да, уж утекло, это верно…Ясное дело, всё с ней ! Как это говорится, «кто со скрипицей в ладу, не пропадёт и в аду…» Конечно, смычок у меня теперь не такой бойкий, да ничего, бабы пока жалуют. Ну, а ты ? всё жиреешь ? А торты твоя супружница всё печёт, всё такое же объеденье ? Как там она ? Всё так же проклинает тебя, когда ты уваливаешь под Рождество ? Эй, слушай, я не могу долго говорить, ты понимаешь, междугородка, это знаешь стоит чёртову прорву, да к тому ж я знаю, как ты занят между двух походов в сортир, но тут со мной есть кто-то, кто хотел бы тебе сказать пару слов, и он так спешит, что прямо побелел, как полотно… Ладно, привет, да не забудь поцеловать Морозицу ! Если бы я мог доверять почте, я попросил бы её прислать мне пару тортиков с кленовым сиропчиком, да только дойдёт всё кашицей, а я знаешь, не перевариваю тортовых кашиц…»
Моя тётка Робертина прыскает смехом, я не могу понять почему. Как она может смеяться, когда я сейчас должен буду говорить с дедом Морозом !
«Дядя Жозафат, в самом деле, Морозица ! Могли бы найти ей нормальное имя !
- А что ? Морозица Мороз, что тебе не нравится ?»
Добрая улыбка вспыхивает в его взгляде, его морщинки делаются глубже, моя тётка Робертина пожимает плечами. Он даёт мне трубку телефона. Мне же хочется убежать со всех ног.
«Я не хочу с ним говорить !
- Мишель, это междугородка, понимаешь. Хочешь, чтобы мы выбросили такие деньги на ветер !»
Я беру трубку, дышу в мембрану.
«Ааааалло ?»
На другом конце кто-то взрывается весёлым, круглым смехом, в котором и хо-хо-хо и ха-ха-ха такие добрые, что я сразу же оттаял и приступил к делу :
«Вы уже приготовили всякие безделушки к Рождеству, дед Мороз ? Потому что ведь это через два дня…»
Дед Мороз много смеётся, правда много и я слегка хмурюсь : этот смех мне как будто даже знаком, глуповатый такой смех, я бы сказал…
«Вы не то, чтобы после пива, а, вы смеётесь, как одинмойдядя, когда выпьет слишком !
- Ничуть не бывало ! Я трезв, как Иов, до того, как он потерял работу. Или кто там, в Библии, был трезвеник. И вообще, я работаю, как чёрт !
- А что это за шум у вас ?
- Это ? Это мои гномы деда Мороза тузят друг дружку ! А ещё я тебе скажу, безделушки будут самые лучшие в этом году !»
Я сразу же забываю, что голос мне как будто тоже знаком.
« А какие ? Какие ? Какие ?»
Он смеётся, просто заливается.
«Ты какой нетерпеливый, а, бля ! Я не должен говорить детям, что я им принесу !»
Я повернул голову к тётке Робертине.
«Дед Мороз говорит «бля», как мой дядя Бебе ! Здорово, а ?»
Можно подумать, что её подмывает расхохотаться, но она опять сдерживается…
«Моя тётя говорит, что нельзя говорить бля, дед Мороз, это некрасиво !»
На том конце молчание. Я слышу, будто кто-то задыхается, будто кто-то смеётся в кулак.
«Вы где ? Это междугородка, понимаете, это дорого стоит !»
Дед Мороз наконец отвечает, но голос у него изменился и мне кажется, что он стал ещё знакомей.
«Морозица мне сказала сейчас то же самое. Извини меня, Мишель. Я больше не буду говорить бля …
- Вы знаете, как меня зовут ?
- Э-э… я узнал тебя… то есть, я догадался. Когда я услышал голос твоего деда Жозафата, а сразу так себе и сказал : он должен был позвонить мне, чтобы я поговорил с Мишелем…
- Мой электрический поезд, это будет лионский…
- Не пытайся вызнать у меня, эй! Я же сказал тебе, что я не имею права ничего сказать ! Во всяком случае, ты будешь рад, это уж точно ! За всю беду ! Когда увидишь, что я тебе принесу, ты, бля, просто выкатишь глаза и повалишься на ковёр, бля ! Э-э, извини меня за бля.
Я улыбаюсь от счастья. Мама сказала бы : возбудился от счастья…
«А вы покушаете мамин яблочный пирог, как в прошлом году ?
- А то как же ! Ты можешь даже сказать ей, чтоб она оставила кусочек побольше, если не жалко ! Морозица меня теперь ревнует, потому что я сказал ей, что пироги Наны Трамбле лучше, чем её ! Из-за этих пирогов она чуть со мной не развелась, малыш ! Можешь себе представить, дед Мороз развёлся ? Из-за пирогов твоей мамочки !»
Я был потрясён, я был так счастлив, что я не нашёлся, что сказать.
«Ладно, поцелуй меня хорошенько, мой дорогой Мишель, и дай ещё трубку моему старинному дружку Жозафату, убийцу скрипок…»
Я буквально обчмокал телефонную трубку и протянул её моему дедушке, который вытер её сперва рукавом пиджака.
Моя тётка взяла меня на руки и отнесла на кухню, где мама как раз прислушивалась, что там у нас происходит.
«Мишель говорил с дедом Морозом, Наночка.»
Мама свела брови.
«С дедом Морозом ?»
Моя тётка сказала ей, как само собой разумеющееся :
«Ну да, с самым настоящим, который вечно торчит в таверне Нормана, и у которого бля через слово…»
Мама согласно улыбнулась, потом снова принялась выкладывать тесто по металлическим тарелкам.
В тот вечер, когда она укладывала меня спать, я удержал её за край платья.
«Вы думаете, что я и впрямь дурачок, да ? Таверна Нормана это же совсем не на Северном Полюсе !»